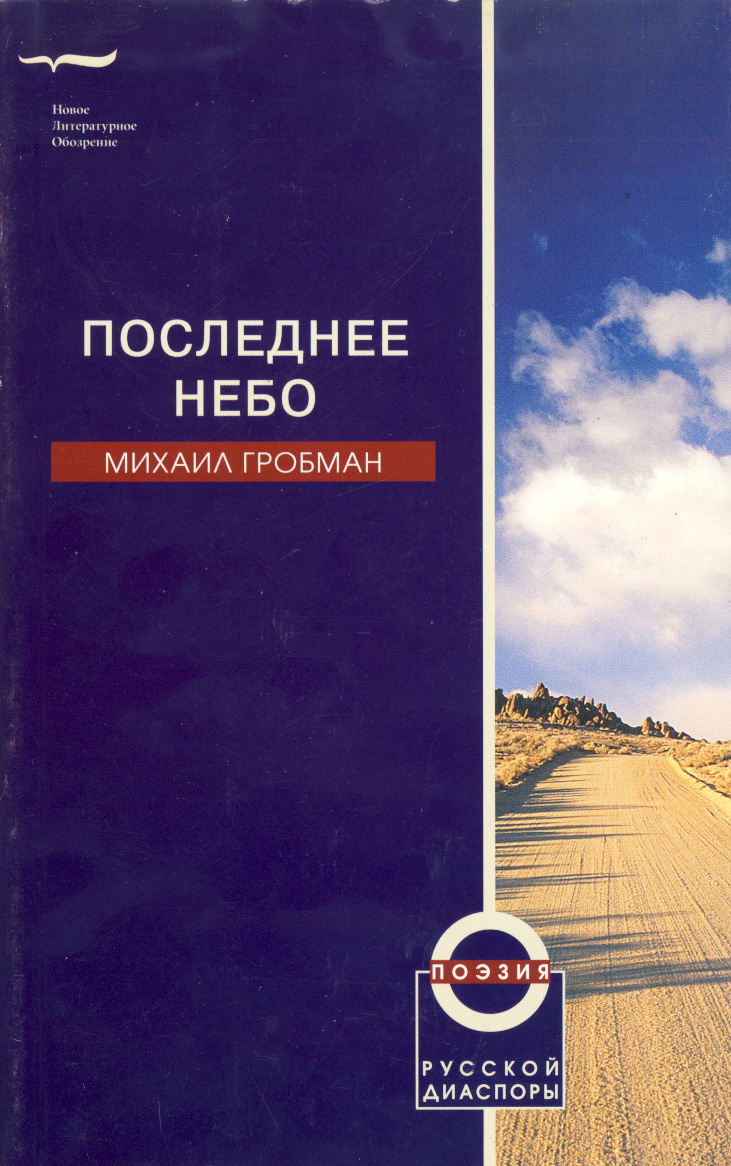Last Sky (Russian, Moscow, 2006)
ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА
(предисловие Елены Фанайловой)
Если бы Гробман жил сейчас в России, он бы точно писал куплеты, которые распевала бы столичная богема, а возможно, что и люди в метро. Возможно, он еще и расклеивал бы в вагонах московского метрополитена стихи о войне и мире, любви и ненависти, пехоте и авиации, ебле и метафизике. Он был бы очень модным поэтом, героем глянцевой журналистики, типа теперь Лимонов, но не ссорился бы с властями, потому что они ему на фиг не нужны. Он очень умный и добрый, в смысле, по-настоящему злой. Продолжая тему про модного поэта, который обязан собирать публику на чтениях: не знаю, как Гробман читает свои стихи, но почему-то думаю, что без актерства. Вряд ли он пошел бы на какой-нибудь слэм или московский проект в духе «Полюсов», он себя слишком уважает, потому что «не сравнивай: живущий несравним». Гробману не надо говорить громко, повышать голос. Когда он говорит как обычно, то есть довольно тихо, музы молчат.
Гробман – идейный сионист, покинувший совок не ради вообще других стран и их сухой колбасы. Он артиллерист-резервист, выпускавший снаряды по огневым точкам и боевым складам палестинцев. Говорит, что трупов врагов никогда не видел. Если они и возникали в результате, то он их не наблюдал. Он сидел в палатках и окопах, получил опыт, подобный примерно нарисованному в кинофильме «Морпехи» – по-настоящему депрессивный, вязкий опыт мужчины в песках. Он написал об этом дико смешные и разумные стихи (см.”Военные тетради”). Его сын –суперсовременный архитектор и майор израильских ВВС, его дочь – успешный голливудский продюсер. Жена его – главный редактор литературного журнала “Зеркало”. У него большая коллекция современного искусства и огромная пастушеская собака-азиат по кличке Тимур, он живет в доме у моря, он патриот Израиля и гражданин мира. И он один из абсолютных артистов, которых мне доводилось встречать. Он никогда не умничает, он постоянно играет.
Он принадлежит тому типу людей, который я, жалкая шикса, признаться, обожаю: вечный протестант, великолепный насмешник, не теряющий оптимизма и сострадания, арлекин, который говорит неприятную правду и вечно передергивает карты, настоящий трикстер (колобок, уходящий от лисы и волка?), для которого и война, и собственное положение, и состояние коллективного и персонального ума (сознательного, а бессознательного у него нету, он все сознает) – повод для блистательного сарказма, приглашение к очередному mot; он утверждает, что не верит в Б-га, и что жизнь конечна, что мы не встретимся после смерти. Что мы, люди, имеем, обретаем смысл только во внутричеловеческом масштабе. И что наша доблесть и вызов определяются тем, что мы окончательно и бесповоротно смертны. Это, кажется, какая-то антропологическая шутка, не всегда моему сознанию доступная, но весьма меня интригующая, я смеюсь здесь как глупый пингвин, через большую паузу. Чтобы так говорить, как Гробман, надо жить долго, и не только в России.
Мне кажется, что поэтические маски Гробмана – как венецианские: они улыбаются, они хохочут, но за ними скорбь, карнавал и смерть, выход на расстрел, но мы почему-то живем, и глубокий вдох как вода в легкие, авторский выход, актерский выход на смерть – она же должна быть публичной, соответственно, забавной и увлекательной, то есть публика будет радоваться и рукоплескать, и мы должны об этом позаботиться, и эта смерть, как настоящая, должна быть непредсказуемой, страшной и скромной, неподкупной и окончательной, как ей и положено в реальности.
Живи Гробман в России, он был бы популярен из-за своего по-военному организованного сознания. Милитарного духа. Он бы стебал военщину и новую русскую кавказскую кампанию. У него каждый текст организован, как рекрут военнообязанный, как солдат Швейк в моменты своих чудесных идиотических просветлений. Еще он в России стебал бы новые русские идеологии, телевизор, рекламку и прочие администрации президентов. Он оч., как сказала бы здесь Бриджит Джонс, медиачувствителен.
Гробман – художник-концептуалист, товарищ Кабакова (отсылаю интересующихся историей искусства второй половины ХХ века к источникам знаний). Поэтому нет смысла удивляться, что его ум, в отличие от умов большинства пишущих по-русски, прекрасно инструментован. Он еще и исследователь иудейского мифа и иудейского визуального (о чем рассуждать должен специалист). Занятия рисованием воспитывают точную письменную речь, формируют оптику. Хороший художник, который возьмется что-либо изложить письменно, не может позволить себе неточное слово. (А если может – так он плохой художник.) Те, кто умеет извлечь из оптики рисовальщика оптику литератора, в моем личном пантеоне занимают топ-позиции.
Русская официальная критика, будь она чуть повеселее темпераментом, могла бы, живи Гробман в России, сделать Гробмана звездой. Но Гробман, похоже, класть хотел на русскую официальную критику; не знаю, как обстоят дела с израильской, подозреваю, с той же степенью взаимного нигилизма.
Он приезжает в Москву зимой, в метель, выставляется где-то в районе Лубянки, ходит в какой-то ужасно элегантной шинели и, кажется, дизайнерской ушанке, посещает исключительно собственные литвечера и очень избирательно – выставки современного искусства, снимается в документальном кино, никогда не напивается, то есть выпить как раз может, но не теряет бдительности офицера, ходит в гости к старым товарищам, о чем они там говорят? Наверное, без конца шутят, их трудно представить серьезными.
Он отличный такой собеседник, вполне входит в ваши обстоятельства, дает себе труд в них разобраться, и не испытывает терпения младшего собеседника тяжелым богемным грузиловом. Мне довольно странно думать, что после смерти я вполне могу попасть в разный с Гробманом рай или ад в результате разных типов работ мозга. Мне это возможное обстоятельство кажется столь же комичным, как его веселые картинки с героем-Дураком. Я бы, правда, хотела бы там видеться с ним хотя бы иногда. Да и здесь надо чаще встречаться.